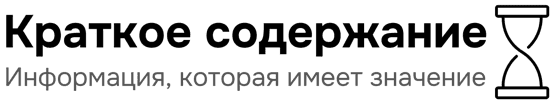Испанский коллега на работе говорит: «Еду в свою деревню» – voy a mi pueblo. Голландец за соседним столом вежливо кивает, но по глазам видно – не понимает. Какую деревню? Зачем? Ты же живёшь в Мадриде. А русскоязычный коллега, если он рядом, мог бы объяснить. Потому что у него есть дача.
У шведа есть sommarhus. У латыша – lauki. У румына – la țară. Слова разные, а жест один: собрать вещи, сесть в машину и поехать туда, где ничего не изменилось. Туда, где ты давно не живёшь, но куда зачем-то возвращаешься каждое лето. И не ты один: 91 миллион поездок за одно лето совершают испанцы по своим дорогам. 60 миллионов россиян владеют дачами. Больше 600 тысяч шведов держат летние дома в стране, где население – десять миллионов.
Вопрос напрашивается: почему миллионы людей регулярно едут в место, где – давайте начистоту – ничего не происходит?
У каждого есть деревня
Есть один запах, который невозможно спутать ни с чем. Деревянный дом, закрытый с осени. Открываешь дверь – и вот он: сухая древесина, пыль, чуть-чуть мыши, чуть-чуть яблоки. Первое, что делаешь – распахиваешь все окна. Этот ритуал одинаков, будь ты в Далларна или в Тульской области, в Кастилии или где-нибудь под Цесисом.
Дальше начинаются различия, но они скорее декоративные. Испанец в августе возвращается в pueblo – маленький городок на внутренней территории, где плотность населения ниже, чем в Лапландии. Вот серьёзно: по данным антрополога Джереми Макклэнси, северо-восточные районы Испании заселены реже, чем север Финляндии. Но в августе деревня оживает. Население утраивается. Площадь перед церковью заполняется людьми, которые весь год живут в Мадриде, Барселоне, Бильбао. Operación Retorno – «операция возвращение» – так DGT, испанская дорожная служба, называет пятимиллионное паломничество последних выходных августа.
Швед едет в стугу – sommarhus, sommаrstuga, просто stuga. Изначально это нечто нарочито примитивное: без горячей воды, без канализации, иногда без электричества. Уличный туалет – «часть искусства», как объясняют хозяева гостям, не вполне уверенным, что это комплимент. Красный домик, покрытый фалунской краской из медных рудников, – символ Швеции примерно в той же степени, в какой берёзка – символ России. С одной разницей: половина населения страны имеет доступ к стуге – своей или родственников. И не через экономический фильтр: вероятность одинакова независимо от уровня дохода.
Русскоязычная дача – 600 квадратных метров рая и обязательств. Томаты, огурцы, комары, шашлык, тёща, забор из профлиста. Слово происходит от глагола «дать»: в XVIII веке Пётр I жаловал загородные участки приближённым. К середине XX века дача стала массовой – после войны государство раздавало шесть соток горожанам, создав, если вдуматься, уникальный феномен: компенсацию за утраченную деревню, оформленную как приусадебный участок.
Румын говорит «la țară» – буквально «в деревню, в страну». Это тот случай, когда язык честнее политики: мол, настоящая страна – она там, за городом. Говорят так до сих пор, хотя именно Румыния пережила одну из самых жестоких попыток эту связь уничтожить – систематизацию при Чаушеску, о которой дальше.
Латышское «lauki» – ещё проще: «поля». Традиционные хутора, viensētas, воспринимаются как символические пространства, связанные с годовым циклом земледельческой работы. Латвийская культура вообще выстроена вокруг природных ритмов – солнце и смена сезонов задают темп жизни уже четыре тысячи лет. Сейчас на хуторах живёт менее 12% населения страны. Но «ехать на лауки» – по-прежнему глагол, не требующий пояснений.
Пять стран, пять языков, одна и та же сцена: человек из города едет туда, где когда-то жили его бабушка и дедушка. Не в отпуск – у отпуска другая логика. Не в дом отдыха. Именно туда, где всё знакомо, всё немного обветшало и ничего не нужно объяснять.
Откуда это взялось
XX век провернул с Европой одну штуку, масштаб которой трудно осознать, пока не посмотришь на цифры. Города занимают 3,6% территории Евросоюза, но в них живёт 38,9% населения. К 2080 году, по прогнозам Европейского инвестиционного банка, урбанизация Европы достигнет 90%. Девять из десяти человек будут городскими. Но ещё два-три поколения назад пропорция была обратной.
Переезд из деревни в город – сам по себе не новость. Новость – скорость. Целые страны проделали этот путь за жизнь одного поколения. И каждая – по-своему.
В Испании рычагом стал франкизм. Индустриализация и туристический бум 1960-х сконцентрировали рабочие места на побережье и вокруг крупных городов. Уехать из деревни было, как писала Politico, «прогрессивным поступком». Провинция Самора потеряла больше 30% населения с 1975 года. Кастилия, Эстремадура, Арагон – 10% населения Испании теперь живёт на 70% её территории.
В Швеции урбанизация шла раньше и мягче, но сработал другой механизм: романтический национализм начала XIX века сделал сельскую жизнь объектом тоски ещё до того, как горожан стало большинство. Красный домик стал символом шведской демократии – нечто среднее между фольклором и политической программой. Folkhemmet, «народный дом» – социал-демократическая идея общего уюта, – распространился и на стугу: доступную, демократичную, по-хорошему скромную.
В Советском Союзе механизм был грубее. Коллективизация уничтожила деревню как самостоятельную единицу. Миллионы людей переселились в города – кто добровольно, кто не очень. Дача возникла как своего рода расписка государства: деревня, которую у тебя отобрали, – вот, держи шесть соток, выращивай помидоры. К концу советского периода дачный участок стал ареной дискуссий о рыночной экономике и морали: одни выращивали картошку для выживания, другие строили хоромы, и каждый судил соседа.
Самый страшный случай – Румыния. Программа «систематизации», запущенная Чаушеску, ставила целью «ликвидировать принципиальное различие между городом и деревней». На практике это означало снос тысяч деревень и переселение крестьян в агрогородки – бетонные блоки посреди поля. Идея была в том, чтобы создать «нового человека», лишённого привязанности к земле и традиции. Получилось ровно наоборот: фраза «la țară» пережила и Чаушеску, и революцию, и вступление в ЕС.
В Латвии и Эстонии советская власть реорганизовала хутора в колхозы и совхозы. Ландшафт изменился физически: осушили болота, проложили новые дороги, построили типовые посёлки с домами культуры. После 1991 года колхозы распустили, и наступила массовая сельская безработица. Постсоветская деревня покрылась заброшенными зданиями.
Что общего у всех этих историй? Поколение, которое уехало, продолжало ездить обратно. Поколение, которое выросло в городе, переняло привычку. Третье поколение уже не всегда понимает, зачем.
Что происходит, когда связь рвётся
А теперь поворот, ради которого всё это затевалось.
Связь рвётся. Не везде, не у всех, но тенденция видна в каждой из пяти культур – и она идёт быстрее, чем кажется.
España vacía – «пустая Испания» – стала политическим термином и даже партийным брендом. Цифры: 42% испанских муниципалитетов находятся в зоне риска депопуляции. 1840 населённых пунктов – на грани необратимости: среднее население 110 человек, средний возраст за 60. Антрополог Макклэнси, работавший в наваррской деревне Циррауки ещё в 1980-х, описывал, как население сократилось с 1400 до 400: старики жаловались на утрату не просто соседей, а целого сенсорного мира – звуков, запахов, ритма жизни. Движение España Vaciada – «опустошённая Испания», не «пустая», потому что это процесс, а не состояние, – оформилось в региональные партии. В 2019 году партия Teruel Existe получила место в Конгрессе. Когда деревня превращается в избирательный бюллетень – дело, видимо, серьёзное.
Шведские стуги – отдельная история. Домик, который в 1960-х мог позволить себе рабочий, теперь оценивается в суммы, от которых молодые семьи вздрагивают. Обратная сторона «демократичной традиции» – то, что когда цены растут, наследственный домик становится единственным способом доступа. А если наследовать некому?
Постсоветские дачи ветшают. Та самая кембриджская исследовательница Джулия Зависка отмечала ещё в 2003 году, что дача – одновременно про производство и потребление, про необходимость и статус. Двадцать лет спустя многие участки просто стоят заброшенные: поколение бабушек уходит, поколение детей живёт в другом городе – или в другой стране. Впрочем, COVID на какое-то время перевернул логику: деревня вдруг стала не прошлым, а убежищем. Но пандемия закончилась, а тренд вернулся к исходному.
Латвийские хутора зарастают лесом и распашкой. Исследователи из Видземского университета констатируют: новые частные дома, которые строят на селе, уже не связаны с традиционным сельским ландшафтом. Преемственность разорвана не только демографически, но и визуально.
И есть ещё одна категория людей, для которых этот разрыв – не постепенный процесс, а данность. Эмигранты. Человек, который вырос в Берлине, а родители – из Бишкека или Кишинёва. Или переехал из Петербурга в Лиссабон. У него нет «mi pueblo» ни в одной из двух стран. Дачу давно продали. Бабушкин дом – тоже. Деревня, в которой кто-то когда-то жил, превратилась в координату на Google Maps, куда можно приехать, но некуда войти.
Что теряется вместе с местом? Не ностальгия – ностальгию можно испытывать по чему угодно, даже по тому, чего не было. Теряется кое-что конкретнее. Якорь. Точка, относительно которой всё остальное движется. Когда у тебя есть «деревня» – ты знаешь, откуда ты. Не в генеалогическом смысле, а в навигационном: вот здесь твоя система координат привязана к земле.
Не ностальгия, а координаты
Академическая статья о греческих детях диаспоры, которых привозили на каникулы на родину предков, называется замечательно: «Мы купались вместе с курицами». В этом названии – всё. Неудобство, странность, и при этом – ощущение, что ты наконец-то на месте.
Деревня – это не про прошлое. Не про «вернуться к истокам» и не про «простую жизнь». Это про то, чтобы иметь одну точку, которая не сдвигается, когда ты живёшь между языками, между городами, между версиями себя.
Вот почему фраза испанского коллеги непереводима для голландца. Не потому, что в Нидерландах нет деревень – деревни там прекрасные. А потому, что голландцы урбанизировались раньше, плавнее и без надрыва. У них не было момента, когда целая страна снялась с места за одно поколение. Нет раны – нет ритуала возвращения.
А у испанца – есть. И у латыша. И у русского. И у румына, и у шведа, хотя швед скажет, что просто любит природу.
Им всем нужно место, где ничего не изменилось. Потому что всё остальное – изменилось.